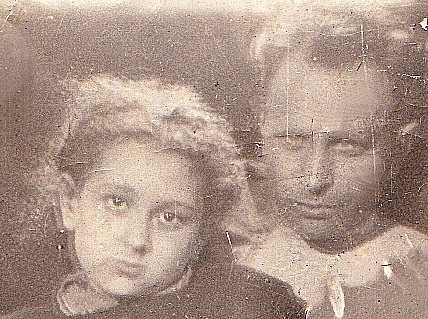
Альманах “Время вспоминать”, книга 3-я. Второй очерк Анны Перельман
Бомбёжка
Война шла уже больше двух месяцев. Сигналы воздушной тревоги, по нескольку раз в день загонявшие в бомбоубежище, не вызывали уже такого страха, как в первое время, а напрасная беготня выматывала и порядком надоела. Сирена выла часто, но настоящей бомбёжки не было. Однажды во время очередной воздушной тревоги Соня оказалась в нескольких кварталах от дома и даже так расхрабрилась, что не бросилась, как обычно, в ближайший подвал, а осталась в подворотне с дежурными ПВО. Задрав головы, все с любопытством смотрели, как высоко в небе кружат несколько самолетов. Казалось, они играют в догонялки. Не верилось, что эта безобидная круговерть и есть воздушный бой. Потом самолёты исчезли. По-видимому, немцев прогнали. Вероятно, это были разведчики. И вообще, возможность бомбёжки стала казаться ей не такой уж реальной.
И вот восьмого сентября, во второй половине дня, когда она, прибежав из госпиталя домой, только уселась за стол собираясь поесть, раздался сигнал воздушной тревоги. Мать, окликнув её, взяла свой рюкзак и направилась к чёрному ходу. Их бомбоубежище находилось во дворе, в подвале довольно ветхого четырёхэтажного флигелька. Как вскоре стало очевидно, от прямого попадания даже небольшой бомбы оно спасти не могло. Но в ту пору, в сентябре 1941-го, жильцы дома ещё послушно туда бегали, а на случай завала носили с собой маленькие рюкзачки, в которых лежали обычно плитка шоколада, фляга с водой, сухари и несколько самых ценных вещей. На дно рюкзака Соня положила свои первые, ни разу не надетые на высоком каблуке туфли. Эти телесного цвета туфли потом, в эвакуации, выменяли на мешок картошки.
Услышав вой сирены, она решила, что на этот раз никуда не пойдёт, пока не доест свои макароны. Надо сказать, что к сентябрю девочка, раньше страдавшая, по мнению матери, отсутствием аппетита, стала проявлять к пище явно повышенный интерес. Однако на сей раз приближающееся хлопанье зениток живо отбило у неё вкус к еде, и, схватив свои пожитки, она побежала. На узкой тёмной лестнице чёрного хода догнала мать и поспешно спускающихся соседей из нижних квартир. Зенитки, надрываясь, залаяли совсем рядом… Когда, держась за шаткие железные перила, они добежали почти донизу, мать, охнув, вспомнила, что не погасила на кухне газовую плиту. Это грозило бедой. Их дом, расположенный на улице Марата, у самого Невского, рядом с милой, затейливой Стремянной церковью, был одним из немногих в Ленинграде домов, газифицированных ещё до войны. (Потом на месте Стремянной церкви водрузили топорный кубик «модерной» сауны.)
Перескакивая через две ступеньки, Соня бросилась наверх и распахнула дверь кухни. Газ был выключен. В этот момент она услышала бесконечно долгий нарастающий свист и вжалась в стенку. Раздался взрыв и затем звон разбитых стёкол, дом покачнулся. Не помня себя от страха, она скатилась вниз по лестнице. Мать и соседка по квартире Султанаева с дочкой стояли обнявшись в углу на лестничной площадке. Девочка прижалась к ним. Снова леденящий душу звук падающей бомбы, дом вздрагивает, и снова грохот взрывов и обвалов. Султанаева, обнимая их всех, раскачивается и не переставая что-то бормочет по-татарски: наверное, молится. При каждом свисте бомбы девочка всей кожей головы чувствует, что бомба эта валится ей прямо на макушку, и, зажмурившись, инстинктивно втягивает голову в плечи. Лестничная клетка наполняется не то дымом, не то какой-то едкой пылью, которая лезет в нос, рот, глаза. Постепенно грохот разрывов и стук зениток стихает, но отбоя тревоги не дают ещё долго, и они не решаются покинуть своё ненадёжное убежище. Представление о времени давно потеряно. На лестнице темно, и кажется, что уже наступил вечер.
Наконец донеслись долгожданные звуки отбоя. Убедившись, что окна в их квартире целы, они выходят на улицу. Оказывается, ещё светло. Мостовая усеяна осколками стёкол, выбитых взрывной волной. Выясняется, что крупные бомбы упали совсем рядом, разбомбили несколько зданий на Стремянной улице и в Поварском переулке, но телефонная станция, которая, вероятно, была объектом атаки, осталась неповреждённой. Проходы к переулкам уже перекрыты спасательными отрядами, разбирающими завалы, но девочка и не пытается туда пробраться. Жутко было видеть убитых и раненых. Люди на улице взволнованно обсуждают только что пережитое. Направо, над Староневским, полнеба в чёрном жирном дыму, и все гадают, что же это там так горит. Горело продовольствие на Бадаевских складах, но трагическое значение этого пожара дошло до всех несколько позже.
В ночь на девятое бобмёжка повторилась, и потом немец бомбил всю осень. Погода этому способствовала. Стояли необычные для Ленинграда ясные дни. Сейчас, спустя столько лет, ей почему-то видится, что тогда в ночном безоблачном небе всё время висела полная луна, высвечивая своим безжалостным светом каждый уголок замершего затемнённого города. Но несмотря на то, что бомбёжек она всегда отчаянно боялась, подробности других налётов почти совсем изгладились из памяти.
Во время воздушных налетов на город сбрасывали массу «зажигалок», но с ними быстро научились справляться, так что цель устрашения населения достигнута не была.
Уразумев, что ближайшее бомбоубежище крайне ненадёжно, а близость телефонной станции опасна, они с матерью стали ночевать у Сониного двоюродного брата, жившего тоже на Марата, но значительно дальше от Невского. Брат с женой в бомбоубежище вообще не спускались, совершенно справедливо, как вскоре стало ясно, считая, что вероятность прямого попадания бомбы мала, а беготня и ночи в убежище сильно ослабляют. Кроме того, находиться в убежище ему, молодому мужчине, вероятно, казалось неудобным, а проводить ночь на крыше и утром идти на завод, где он работал до мобилизации, было уже не по силам. Уж лучше оставаться в своей кровати. Они с матерью позже тоже пришли к такому выводу, и уже никакая бомёжка не могла заставить их выбраться из тепла постели. Но в октябре они ещё бежали в подвал почти при каждой тревоге. В этом самом подвале они с замиранием сердца слушали по радио знаменитую речь Вождя, в которой он презрительно упомянул о «растерявшихся интеллигентиках» и пообещал, что война, как он выразился, кончится «через полгода, годик». В это время немец бомбил и обстреливал город страшно.
Хорошо запомнилась, пожалуй, ещё одна ночь ‒ возможно, в середине октября. Они с матерью спали, как обычно, вдвоём на диване в маленькой комнате окнами во двор, а брат с женой ‒ в гостиной. Чёрная тарелка репродуктора висела на стене, но девочка проснулась не от воя сирены – сигнала воздушной тревоги, а от близкого стука зениток. Измученная за день мать спала. Что возьмёт верх: страх перед бомбёжкой или нежелание вылезать из тёплой постели и бежать вниз, в темноту и холод опостылевшего подвала? Мысль о том, что она обязана разбудить маму, кажется, вообще не приходила ей в голову. В мучительной тревоге прислушивалась она к гудению приближающихся «Юнкерсов». Этот тянущий за душу прерывистый звук был уже достаточно хорошо знаком. Всё громче и громче ухают зенитки. Они захлёбываются где-то уже совсем близко. Самолёты гудят над самой головой. Вот, вот сейчас сбросит!
«Господи, пронеси! Господи, пронеси!» – мысленно твердит она. Ей кажется, что именно от этих слов гул моторов, медленно удаляясь, стихает. Зенитки умолкают, лишь в темноте над головой тихонько тукает метроном из репродуктора и вдалеке слышны глухие разрывы. Немец, видимо, бомбит другой район.
Она прижимается к спящей матери и с напряжением ждёт следующей волны, надеясь, что, может, уже и всё. Но в уши ввинчивается, сначала еле слышный, а потом всё более отчётливый гул моторов. И снова приближается стук зениток, и самолеты идут над самой крышей дома, и в который раз, цепенея от страха, она, как заклинание, повторяет всё те же слова. Налёт этот продолжался долго, бесконечно долго ‒ возможно, всю ночь. И всё время в глубине души она сознавала, чувствовала неправильность, недозволенность своей мольбы. Почему, собственно, смерть должна обойти её и обрушиться на других? Чем она лучше? Чем заслужила? Ничем!
«Но ведь я ещё совсем не жила, – пыталась она возразить самой себе. – Если я останусь жить, я не потрачу жизнь зря, я сделаю что-то хорошее, я оправдаю, оплачу».
Ничего оплачено не было, да и вообще, долги, не погашенные сразу, как теперь ясно, не погашают уже никогда.


Leave a Reply