
Мы представляем фотографа Григория Фрида. Этот снимок сделан им в канун нынешнего Судного дня в иерусалимском квартале Меа Шеарим. “Капарот”.
В своё время я мечтал иметь четырёх сыновей. Судьба распорядилась по-своему ‒ только одного подарила. Загадал маме, жене и тёще: если будет сын (в то время ещё по УЗИ не определяли), то имя выбирайте сами. А вот второго хочу назвать Даниилом. Первый родился, но второго ‒ не было: спасая мою жену при тромбоэмболии, плод удалили, и моей мечте уже не суждено было осуществиться.
Зато уже наш единственный, зная папино желание, назвал своего второго Даниилом. И у меня второй внук ‒ Даня! Как в сказке!
Через несколько недель новорождённого Даню родители привозят к нам, и сын деловито: «Ты хотел? Можешь нянчить».
С удовольствием, в любое свободное время.
Мальчик подрастал ‒ своеобразный, внимательный, больше привязанный к маминым родителям. Приезжая к нам на дачу, заберётся на второй этаж с ящиком игрушек и развинчивает и собирает их часами. Не слышно его и не видно. Рано научился читать. Всё, что прочитает, анализирует и задаёт иногда неудобные вопросы. А то, спустившись со второго этажа, где размещается библиотека, сообщит Соне, что у неё нет и не может быть деверя. Мальчику пять лет. А мы не можем сразу сообразить, кто кому деверь.

Присмотревшись повнимательнее к внуку, замечаю своё с ним сходство: и на фотографиях в соответствующем возрасте, и в реакциях. Данька, безусловно, красивее деда и растёт в другое время. У него в детстве есть всё, что нужно для полноценного развития современного молодого человека. Родители стараются, и некоторое время спустя ящики с пиратами, машинками, подъёмными кранами, игрушечными мотоциклами и др. перемещаются на дачу. Запросы и потребности возрастают ‒ от простого сотового телефона до «накрученного», с интернетом. Дед занят своими делами ‒ внуки развиваются по своей программе.
Но когда заболевают, подключаются дед с его женой Соней.
Правда, за здоровьем внуков по-своему следит их мама. Данька в очередной раз попадает в детскую (новую) больницу. Он уже лежал вместе со старшим братом Ильёй в инфекционной, потом в связи с тем, что его укусила собака, а теперь ‒ плановое лечение. Что-то с сердечным клапаном. Сотовый телефон с собой.
Дед свободен, выясняет, что внуку нужно: чипсы? сок? вкусная колбаска? фрукты?
Достака через день, общение, поцелуи. Спасибо, дед, иди, поезжай домой.
– Данечка, а у тебя сейчас нет процедур? Давай посидим тут на скамье. Никто не мешает. Я тебе кое-что расскажу о своём детстве. Кто тебе ещё расскажет?
Коридор в новой больнице широкий. Изредка кто-то проходит. Скамья уютная, у окна.
– Я попробую, если у тебя хватит терпения слушать, рассказать о своём детстве начиная с 1944 года.
Данька улыбается, давая понять, что готов слушать. И я приступаю.
– Детство мне запомнилось как сплошной фейерверк: ни тени, ни страха, хотя заканчивалась самая страшная война ‒ Вторая мировая.
Мне четыре года, идёт 1944-й год. Город Курган, эвакуация. Мама, возвратившись с работы домой, пробралась через низкое окно в комнату (хозяйка не пропускала через свою) и, обняв и поцеловав нас с братом, сообщила, что вечером идём смотреть новый фильм ‒ «Два бойца». Мама работала главным бухгалтером в каком-то училище, и там вечером будут показывать по частям этот фильм.
Экраном служила простыня, закреплённая на стене. Сидя на траве рядом с братом, впереди, у деревянной стены общежития, я вздрагивал и кричал вместе с другими, когда в филме происходили волнующие события. А Марк Бернес впервые пел «Тёмную ночь» и «Мы отстояли навсегда бессмертный Ленинград».
Домой шли вдоль металлических низких заборов с такими же, из листового металла, калитками, которые пацаны постарше простреливали из найденного или украденного оружия, в основном, из пистолетов.
Некоторые считают, не надо ворошить прошлое. Я с этим не соглашаюсь. Конечно, я не хочу, чтобы мои внуки так же, как я, испытали лишения, но ‒ пусть «потрогают прошлое».
9-е мая 1945 года. Мне почти пять с половиной лет. У нас перед домом, на Пушкинской, большая непросыхающая лужа. Улица немощёная. По ту сторону лужи живёт безногий сапожник, которого я почему-то боюсь. И вот костыль, вздрагивая в его руке, взлетает вверх. Вся улица забита людьми, все целуются, обнимаются, кричат: «Ура! Победа!».
Пора возвращаться домой, в Минск. Но что нас там ждёт?
Правда, у меня, ребёнка, такой вопрос не возникал. В пути всё было интересно: и арендованный полувагон, и мелькающие станции, и встречные воинские эшелоны, и, наконец, затеи моего деда Давида, который разбил выброшенные железнодорожные подшипники и достал из них сферические цилиндрики ‒ это шашки. Дед нарисовал на картоне шашечную доску и, надев очки, стал играть со мной. Он поддавался, не показывая вида, а я радовался победам.
Мой дед был «лишенцем», притом незаслуженно, так как всегда оставался бедным. В эвакуации работал плотником. Его старший сын, мой дядя Лёва, всю войну прослужил в танковой армии Рыбалко, имел звание капитана. В конце 1946 года он с женой и сыном Гришей (Гриней) на пути из Германии посетит нас в Минске.
Дом деда, одноэтажный, сохранился, но был заселён разными людьми. Дед доказал, что это его дом, и постепенно освободил его для детей и внуков. Папа, как мог ему помогал. К папе по делам приезжал из Ленинграда его друг по фамилии Брук. Нам с братом он запомнился тем, что подарил нам деньги на ёлочные игрушки. У нас совсем их не было, как, наверно, у большинства детей того поколения.
Дом деда был маленький, деревянный и состоял из трёх комнат. Кухни не было. Дом находился на улице Коллекторной, 16, в районе бывшего гетто и рядом с мемориальным еврейским кладбищем.
Кладбище было старинное, но на нём ещё хоронили вплоть до 1953 года. Меня поражали кладбищенские памятники: ствол дерева с обрубленными ветвями, склепы с колоннами и простреленными крышами ‒ многие монументы повалены, расколоты, могилы неухоженные. У входа на кладбище со стороны улицы Сухой сохранилась старинная арка с древнееврейской надписью. Напротив неё, в одноэтажном деревянном бараке, расположилась швейная мастерская «Рот фронт». Со стороны Мебельного переулка на кладбище был пустырь, который облюбовали для игры в футбол местные мальчишки и студенты индустриального техникума.
На территории этого кладбища проходило моё детство. Здесь мы находили патроны, даже винтовки, выковыривали из пуль свинец, отыскивали клочки овчины, из которых делали «маялки» и «тюшки» для игры на деньги. «Маялки» делались так: в оловянной пластинке проделывали отверстие и прикрепляли к овчинке, чтобы потом правой ногой подбивать вверх ‒ кто больше. «Тюшки» ‒ это уже сложнее, и требуется свинец. Свинец плавили на огне (на костре, на примусе) в какой-нибудь баночке и заливали в заранее приготовленную в земле сферическую ямку диаметром в шесть-семь сантиметров. Отливка потом обрабатывалась камнем или напильником, у кого что было. Но у каждого пацана в кармане, помимо рогатки, были «тюшка» и «маялка». Игра «в тюшку», на деньги, была под запретом, но ведь родители днём на работе. Монеты клали на землю, отходили на какое-то расстояние, проводили на земле черту и, стоя за ней и не переступая, бросали «тюшку» в сторону денег. Кто ближе докинул, тот бьёт первым. Если монета от удара переворачивается ‒ она становится твоей. Не переворачивается ‒ бьёт другой. На деньги играли и просто монетами: ребром монеты ударяли об стену ‒ «кто дальше». Противник бил в направлении первой монеты и для победы должен был дотянуться растянутыми пальцами одной руки от своей монеты до чужой. Если дотягивался, выигрывал. Играли в городки, прятки, считалки. Весной находили линзы и выжигали слова, рисунки.
Дядя Лёва, возвращаясь из армии перед Новым, 1947-м, годом остановился у нас и подарил нам со старшим братом по пятьдесят рублей на игрушки. Для нас это были невиданные деньги. На игрушки! Мы отправились на ёлочный базар. Его палатки расположились возле Министерства иностранных дел. На этом базаре мы растратили на ёлочные украшения с картонными дедами-морозами (в мой тогдашний рост) все деньги, подаренные Бруком и дядей Лёвой, и еле дотащили покупки домой.
Первая ёлка после Победы! До наступления темноты в доме закрывались ставни. Улицы не освещались. Страшные рассказы про банду «Чёрная кошка» будоражили воображение.
Напротив нас, на хозяйственном дворе, что-то строили пленные немцы. По рассказам соседей, в районе деревни Комаровка, тогда находившейся на окраине города, поставили виселицы и на них вешали немцев и сотрудничавших с ними во время оккупации полицаев. Сегодняшним молодым людям трудно понять, в какой обстановке мы жили. Мама, гуляя со мной и с братом и держа нас за руки, бывало, завидит встречных еврейской наружности, поздоровается и спросит, всегда одно и то же: «Где вы были, где прятались?» О геноциде официально ещё мало что было известно, но люди и сами знали, что очень многие уничтожены ‒ сожжены, закопаны живьём, расстреляны. Эта рана не рубцевалась очень долго, она болит и сейчас.
А через Комаровку шёл трамвай №1 ‒ к Академии наук и больнице № 1. Там всегда были лужи, располагался базар и мелкие лавочки ремесленников, в одной из которых работал дядя Исаак Петрушко – муж Цили, родной сестры моей мамы. Он польский еврей, всю войну воевал в партизанском отряде. Человек очень способный: механик от бога. В этой мастерской Исаак ремонтировал примусы, велосипеды, швейные машинки «Зингер» и прочее. У него в доме был восстановленный велосипед и даже маленький мотоцикл. Он изредка разрешал нам, пацанам, поездить на велосипеде. Когда-же родился уменя сын (твой папа), Исаак, хотя уже в мастерской не работал, делал для него велосипеды по росту.
Приметы времени: на улице Мясникова были деревянные мостки, по которым гуляли жители послевоенного Минска. А внизу текла река Немига… Осенью 1947 года над Минском летали самолёты и разбрасывали листовки: 30 лет Октябрьской революции!
В конце зимы в наши ставни постучал сосед Николай с криком «Пожар!». Папа, сонный, натянул на кальсоны штаны, во что-то закутал нас с братом и выбежал на улицу. Горел наш дом. Пожарные приехали быстро. Мы стояли перед домом, дрожали и наблюдали, как пожарные делают своё дело. Дед был упрямый ‒ оставался в доме, пока тушили: он боялся мародёров, хотя в доме нечего было красть. Поступок деда потом не обсуждался, так как дед был вне критики. Игрушки лежали на чердаке в чемодане. Они сверкнули ‒ и пожарный направил шланг в наш чемодан! Пожар удалось погасить, обгоревший дом отремонтировали.
Весной к нам приходил в гости папин двоюродный брат Самуил Кунявский. Он руководил сетью детских домов во время войны и после неё. Его, как настоящего, идейного члена партии большевиков, я уважал больше всех вождей и знакомых мне членов партии, считал его настоящим другом детей и патриотом. Кунявский подарил мне первую в моей жизни игрушку – деревянный паровозик. Это был необыкновенный подарок. Это был роскошный, не вписывавшийся в нашу серую жизнь подарок, озаривший моё детство какой-то искрой счастья и добра!
В сентябре мама отвела меня в первый класс 16-й семилетней школы по улице Обувной, к учительнице Олимпиаде Степановне Макаренко. Начиналась новая, интересная, полная неизведанного жизнь.
Во время всего рассказа Данька смотрел на меня широко раскрыв глаза. Что творилось в его душе, мне было понятно: мы оба чувствовали одно.
К нам подбежала какая-то девушка и, извинившись, спросила у Дани совета по общению с айфоном. Он отвлёкся, и я тоже. Я задумался.
‒ Даня, а ты знаешь, в каком месте построена вот эта детская больница, где мы сейчас находимся?
– Нет, деда, а что?
– Из окна видишь забор и деревья? Там мемориальное кладбище и вечный огонь ‒ Масюковщина… А здесь были рвы и овраги, в которых немцы и полицаи расстреливали людей, большинство которых были евреи.
Даня удивлённо повернулся к окну, а я продолжал:
– В 1965-1966 годах со мной работал бульдозерист по фамилии Мороз. Он мне рассказывал, что мальчиком он жил в соседней деревне и, прячась в кустах, наблюдал эти расстрелы. Мороз много пил ‒ может и оттого, что видел такое в детстве.
Я медленно поднялся, попрощался с внуком и уехал домой. Шёл 2012 год.

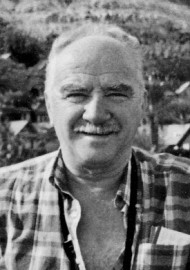
Leave a Reply